Помнить, чтобы не повторилось...
Ляды
Деревня в Прилепском сельсовете, в 22 км от железнодорожной станции Смолевичи на линии Минск — Орша, при реке Усяжа. Название поселения возникло из термина «ляда» (участок из–под выкорчеванного леса). Впервые упоминается в юридических актах 1598 года как село Минского уезда Великого княжества Литовского. С 1793 года, после второго раздела Речи Посполитой, оно вошло в состав Российской империи. Согласно переписи 1897 года, деревня в Острошицко–Городельской волости Минского уезда, где было 28 домов и 170 жителей. Перед Октябрьской революцией — 28 дворов, где проживали 209 человек. В 30–е годы здесь была проведена коллективизация. К сожалению, многих свидетелей войны уже нет. Поэтому историю сожженной деревни мы восстанавливали в основном при помощи архивных документов.
Из протокола допроса Анны Николаевны Абметко 1885 года рождения
Уроженка и жительница деревни Ляды Прилепского сельсовета, крестьянка, беспартийная, неграмотная, вдова, домохозяйка. Протокол допроса от 24 апреля 1961:
«Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний по ст.ст. 177 и 178 УК БССР предупреждена.
В годы войны Советского Союза с Германией я проживала на оккупированной немцами территории сначала в своей деревне Ляды, а затем, с марта 1943 года и до июля 1944 года, т.е. до прихода советских войск в нашу местность, в деревне Раубичи Минского района. В этой деревне я стала жить потому, что в марте 1943 года наши Ляды были сожжены немецкими карателями, а многих наших односельчан они уничтожили. После войны я возвратилась обратно в свою деревню. В настоящее время в ней насчитывается 26 домов.
В марте 1943 года партизаны обстреляли одну немецкую автомашину и, как говорили, ими было убито два немца. Этот случай произошел на шоссейной дороге, недалеко от деревни Багута. В тот же день каратели прибыли в ту деревню и сожгли ее всю, до одного дома, а большую часть населения уничтожили. Сколько человек там погибло, я не знаю. Через день после этого, в воскресенье, я встала рано утром и вышла на улицу. Там я увидела бегавших по улице женщин, которые мне сказали, что к деревне приближаются немецкие каратели, и спросили, почему я не ухожу из деревни. Затем я услышала выстрелы. Это стреляли каратели. Я вместе с односельчанкой Марией Марфель залезла в погреб и укрылась от немцев. Находясь там, я слышала, как каратели стреляли и сильно кричали женщины и плакали дети. Сначала я подумала, что у местных жителей забирают коров и имущество. Но затем нам в погребе стало невозможно находиться, так как его соломенная крыша загорелась. Сначала мы доставали из деревянной бочки капустные листы и стали ими обматывать руки и лицо, поливались рассолом.
В годы войны Советского Союза с Германией я проживала на оккупированной немцами территории сначала в своей деревне Ляды, а затем, с марта 1943 года и до июля 1944 года, т.е. до прихода советских войск в нашу местность, в деревне Раубичи Минского района. В этой деревне я стала жить потому, что в марте 1943 года наши Ляды были сожжены немецкими карателями, а многих наших односельчан они уничтожили. После войны я возвратилась обратно в свою деревню. В настоящее время в ней насчитывается 26 домов.
В марте 1943 года партизаны обстреляли одну немецкую автомашину и, как говорили, ими было убито два немца. Этот случай произошел на шоссейной дороге, недалеко от деревни Багута. В тот же день каратели прибыли в ту деревню и сожгли ее всю, до одного дома, а большую часть населения уничтожили. Сколько человек там погибло, я не знаю. Через день после этого, в воскресенье, я встала рано утром и вышла на улицу. Там я увидела бегавших по улице женщин, которые мне сказали, что к деревне приближаются немецкие каратели, и спросили, почему я не ухожу из деревни. Затем я услышала выстрелы. Это стреляли каратели. Я вместе с односельчанкой Марией Марфель залезла в погреб и укрылась от немцев. Находясь там, я слышала, как каратели стреляли и сильно кричали женщины и плакали дети. Сначала я подумала, что у местных жителей забирают коров и имущество. Но затем нам в погребе стало невозможно находиться, так как его соломенная крыша загорелась. Сначала мы доставали из деревянной бочки капустные листы и стали ими обматывать руки и лицо, поливались рассолом.
Но в погреб нашло много дыма, и крыша стала обваливаться. Поэтому мы вышли на улицу и пошли по лощине. При этом заметили, как горит сарай с находившимися в нем людьми. Некоторые из них были еще живы и сильно кричали, просили о помощи. В то время нас увидел каратель, стоявший у сарая. Он выстрелом убил Марию Марфель, а мне приказал поднять руки и подойти к нему. Я пошла к нему, а он стал стрелять по мне. Я сильно перепугалась, хотя ранена не была. Я хотела бежать, но не смогла. Подойдя к карателю, я увидела недалеко стоявших от него наших односельчан: Семена Букатича, его жену Стефаниду Григорьевну Букатич, Веру Захаровну Смирнову и ее десятилетнюю дочь. Каратель мне приказал подойти к этим людям и после этого повел нас к помещению животноводческой фермы. Когда завел нас на ферму, то приказал встать в одну шеренгу. Я догадалась, к чему это все, и присела. Тут же послышались выстрелы, и все вышеуказанные люди упали убитыми. Затем каратель выстрелами из автомата поджег ферму, а потом ушел. Через некоторое время я выбралась из здания фермы и ушла в деревню Раубичи к своему сыну.
В тот день немцы сожгли всю нашу деревню, в которой было более сорока домов, уничтожили очень много односельчан. Мне известно, что удалось спастись немногим нашим односельчанам, в том числе и мне лично. Многих людей расстреляли и сожгли. Во время этой зверской расправы каратели занимались грабежом местного населения, у которого забирали скот, хлеб и ценные вещи, а все остальное сожгли вместе с домами и людьми. Большая часть жителей была сожжена в сарае. Когда я находилась еще в погребе, а он загорелся, то я очень сильно обожгла руки, когда стала из него вылезать. Поэтому я не ходила на пепелище нашей деревни. Откуда приехали каратели, я не знаю. Видела, что они были одеты в военную форму серо–синего цвета. У одних на голове были пилотки, а у других — фуражки. В тот же день, насколько мне известно, были сожжены соседние деревни Прилепы и Погорелец. Эти деревни были сожжены полностью, а сколько человек в них погибло, я не знаю. Все погибшие мои односельчане были похоронены их родственниками и близкими людьми на местном кладбище в деревне Прилепы. Каждого погибшего похоронили в отдельной могиле, а тех, кто сильно обгорел, похоронили в общей могиле. Памятников на них не ставили. Больше дополнить ничего не могу. Протокол мне зачитан вслух, записано с моих слов верно».
В тот день немцы сожгли всю нашу деревню, в которой было более сорока домов, уничтожили очень много односельчан. Мне известно, что удалось спастись немногим нашим односельчанам, в том числе и мне лично. Многих людей расстреляли и сожгли. Во время этой зверской расправы каратели занимались грабежом местного населения, у которого забирали скот, хлеб и ценные вещи, а все остальное сожгли вместе с домами и людьми. Большая часть жителей была сожжена в сарае. Когда я находилась еще в погребе, а он загорелся, то я очень сильно обожгла руки, когда стала из него вылезать. Поэтому я не ходила на пепелище нашей деревни. Откуда приехали каратели, я не знаю. Видела, что они были одеты в военную форму серо–синего цвета. У одних на голове были пилотки, а у других — фуражки. В тот же день, насколько мне известно, были сожжены соседние деревни Прилепы и Погорелец. Эти деревни были сожжены полностью, а сколько человек в них погибло, я не знаю. Все погибшие мои односельчане были похоронены их родственниками и близкими людьми на местном кладбище в деревне Прилепы. Каждого погибшего похоронили в отдельной могиле, а тех, кто сильно обгорел, похоронили в общей могиле. Памятников на них не ставили. Больше дополнить ничего не могу. Протокол мне зачитан вслух, записано с моих слов верно».
Из воспоминаний
Софьи Павловны Букатич
(Хмельницкой)
Софьи Павловны Букатич
(Хмельницкой)

1932 года рождения, жительница деревни
«Я родилась в деревне Ляды, здесь и войну пережила. Родители работали в колхозе, растили девять детей. Успела еще закончить один класс в местной школе. Здесь когда–то жила одна женщина, которую еще до войны за что–то выслали, так вот в ее доме и находилась наша школа. Деревня очень большая была. Перед войной наша хата была самая последняя на улице, а потом, в 30–е годы, начали сносить близлежащие хутора, и Ляды расширились. Клуба и магазина не было. Тот день, когда началась война, я уже не помню. Но на всю жизнь запомнила, когда кто–то из жителей сказал, что деревню нашу сжигать будут. Где–то под Багутой партизаны обстреляли немецкую машину, и за нее фашисты будут мстить. Это было перед выходными. Мама нас собрала ночью и вместе с соседкой повела в деревню Кудрищино к папиному брату. И папа там был с лошадью нашей. Что–то успели взять с собой из одежды. Снег еще на улице лежал, холодно было. Нужно было реку переходить, соседка в нее упала, в эту воду ледяную.
Деревню всю сожгли, а скот весь забрали
Папа вернулся в деревню, а соседские куры сидели на плетеном заборе. Коров тоже немцы забрали, а когда их угоняли, то наша коровка как–то смогла убежать в деревню Кристыново. А когда мы вернулись в деревню, то увидели, что от нее ничего не осталось. Людей, более 90 человек, согнали в один сарай и подожгли. Еще несколько человек подожгли в здании фермы. Кто мог убегать, того расстреливали из автоматов прямо на поле возле деревни. Я до сих пор помню тех людей, которые сгорели тогда, ведь в деревне все друг друга знают. Мне хоть и 11 лет было, но такое нельзя забыть. Погибли целые семьи. Уцелели только те, кто успел уйти или дома не было. Я помню, что немцы жгли Ляды в воскресенье. Тогда еще жгли деревни Прилепы и Погорелец. Там должны еще остаться люди, которые это помнят.
После сожжения деревни наша семья жила некоторое время в Кудрищино. А после того, как нашлась наша корова, переехали в Кристыново. Там тоже наши родственники жили. В один дом съезжались по четыре–пять семей. Там нам разрешили строиться, и папа сделал сруб нашего дома. Потом его перевезли в Ляды. Эта хатка, в которой я сейчас живу, сложена из того самого сруба. И стоит она на том самом месте, где во время войны стояла. И огород даже там, где раньше был.
После сожжения деревни наша семья жила некоторое время в Кудрищино. А после того, как нашлась наша корова, переехали в Кристыново. Там тоже наши родственники жили. В один дом съезжались по четыре–пять семей. Там нам разрешили строиться, и папа сделал сруб нашего дома. Потом его перевезли в Ляды. Эта хатка, в которой я сейчас живу, сложена из того самого сруба. И стоит она на том самом месте, где во время войны стояла. И огород даже там, где раньше был.
Мы каждый раз страшно пугались,
когда слышали, что немцы опять едут
когда слышали, что немцы опять едут
А я хватала младшего брата, он с 34–го года был, и убегала за три километра в Кристыново. Я помню, как местные хлопцы катались здесь недалеко с горки, а немцы к ним: «Где партизаны?» А кто знал? Да и не сказали бы все равно. Сестру мою старшую схватили и погнали через деревню. Тогда сосед уговорил фрицев ее отпустить. Если бы не он, то неизвестно, что с ней было бы. Во время войны у меня родились еще два братика, но тогда же и умерли. Есть было нечего, ели лепешки из гнилой картошки. А они воняли очень, но нам вкусно было. Тяжело выживали, что говорить. Я войну часто вспоминаю, если бы и хотела забыть, то не получается. Папа мой, Павел Васильевич Хмельницкий, пошел воевать на фронт. Где похоронен, никто не знает. Прислали похоронку, что пропал без вести».
Из протокола допроса Владимира Николаевича Росса 1921 года рождения
Уроженец и житель деревни Ляды Прилепского сельсовета, крестьянин, беспартийный, образование 7 классов, женат, работает счетоводом–кассиром колхоза им. В.И.Ленина. Протокол допроса от 24 апреля 1961:
«Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний по ст.ст. 177 и 178 УК БССР предупрежден.
В годы войны я проживал сначала в деревне Ляды, где вместе с родителями занимался сельским хозяйством. Это было в период с июля 1941 года и до 14 марта 1943 года. Затем наша деревня была сожжена карателями, и я стал проживать у своих родственников в деревне Беляны Минского района, где жил до сентября 1945 года. Потом я построил дом в деревне Ляды, где проживаю в настоящее время.
Как сейчас помню 14 марта 1943 года. В воскресенье примерно в пять часов утра я проснулся, и мне моя мать, Антонина Демьяновна Росса (умерла 15 марта 1961 года), рассказала, что на улице ходят наши односельчане и говорят, что нашу деревню будут сжигать. Боясь последствий, мы стали собираться. Я вышел во двор, запряг лошадь в сани, и мы стали на них складывать вещи и продукты. Когда я на подводе выехал на улицу, то увидел, как со стороны шоссе, что проходит из Минска в Логойск, приближаются цепью немецкие каратели. Они, увидев бегавших людей на улице, стали стрелять. В это время моя мама и моя тетка Екатерина Прохоровна Росса (умерла в 1960 году) мне сказали, чтобы я с сестрой Татьяной (теперь Альшевская) уезжали из деревни. Они думали, что нас как молодых каратели могут забрать, а их, пожилых, не тронут. Я тут же с сестрой выехал из Ляд, и мы поехали в сторону соседней деревни Дуброво. Когда мы стали приближаться к ней, то увидели, как от опушки леса шли цепочкой другие каратели по направлению к деревне Дуброво. Боясь, что нас задержат, мы заехали в кустарник и там скрылись. Когда каратели зашли в Дуброво, мы поехали в деревню Манчаки Логойского района, где остановились у местных жителей. Через некоторое время немцы добрались и туда.
В годы войны я проживал сначала в деревне Ляды, где вместе с родителями занимался сельским хозяйством. Это было в период с июля 1941 года и до 14 марта 1943 года. Затем наша деревня была сожжена карателями, и я стал проживать у своих родственников в деревне Беляны Минского района, где жил до сентября 1945 года. Потом я построил дом в деревне Ляды, где проживаю в настоящее время.
Как сейчас помню 14 марта 1943 года. В воскресенье примерно в пять часов утра я проснулся, и мне моя мать, Антонина Демьяновна Росса (умерла 15 марта 1961 года), рассказала, что на улице ходят наши односельчане и говорят, что нашу деревню будут сжигать. Боясь последствий, мы стали собираться. Я вышел во двор, запряг лошадь в сани, и мы стали на них складывать вещи и продукты. Когда я на подводе выехал на улицу, то увидел, как со стороны шоссе, что проходит из Минска в Логойск, приближаются цепью немецкие каратели. Они, увидев бегавших людей на улице, стали стрелять. В это время моя мама и моя тетка Екатерина Прохоровна Росса (умерла в 1960 году) мне сказали, чтобы я с сестрой Татьяной (теперь Альшевская) уезжали из деревни. Они думали, что нас как молодых каратели могут забрать, а их, пожилых, не тронут. Я тут же с сестрой выехал из Ляд, и мы поехали в сторону соседней деревни Дуброво. Когда мы стали приближаться к ней, то увидели, как от опушки леса шли цепочкой другие каратели по направлению к деревне Дуброво. Боясь, что нас задержат, мы заехали в кустарник и там скрылись. Когда каратели зашли в Дуброво, мы поехали в деревню Манчаки Логойского района, где остановились у местных жителей. Через некоторое время немцы добрались и туда.
Я увидел, что на подводах у них были разные вещи домашнего обихода. Как только фашисты скрылись, мы с сестрой поехали домой в Ляды. Заехав на гору, увидели, что все дома в Лядах охвачены огнем. Тут же увидели, что горят и соседние деревни Прилепы и Погорелец. Причем от Прилеп валил столб черного дыма. Увидев, что наша деревня горит, мы с сестрой уехали сначала в Дуброво, а затем на Усяжу. Там мы переночевали, а утром вернулись в Ляды, которая была вся сожжена. Я подошел к тому месту, где стоял наш дом, от которого остались одна обгоревшая печь и пепелище. Рядом с нашим домом, еще до сожжения, находился недостроенный, без крыши сарай. Я подошел к тому месту и увидел трупы наших обгоревших односельчан. При этом я заметил, что среди погибших сидела на земле наша односельчанка Анна Ивановна Абметко, у которой на руках находились два ребенка, прижатые к груди. Они, как и их мать, были обгоревшие. А Михаил Александрович Нехайчик лежал на земле с сильно обожженным лицом, обращенным в ту сторону, где у сарая были двери. Причем его руки были скрючены в предсмертной судороге, а в них была земля с соломой. Увидев все это, мне стало страшно, и я ушел. Кроме указанного сарая, часть односельчан была сожжена в помещении бывшей фермы. Всего в тот день карателями было сожжено более 90 человек и 58 домов или 54 вместе с колхозными и надворными постройками.
Тогда случайно спаслись еще Никита Иванович Булыга (он умер в 1955 году) и Анна Николаевна Абметко. Булыга спрятался от карателей, закопавшись в кучу навоза. Другие же наши односельчане остались живы только потому, что им, как и мне, удалось убежать еще до сожжения деревни. Я знаю, что в Прилепах, кроме домов, немцы сожгли школу, два магазина, водяную мельницу, сельсовет, почту и больницу. Уцелел только колхозный клуб. А сколько точно было там домов и убито людей, я не знаю. Деревню Багута в пяти километрах от нас, каратели сожгли в пятницу, 12 марта 1943 года и сожгли там около 150 человек.
После Багуты и в нашей деревне боялись расправы, поэтому и успели убежать некоторые жители. Деревню Дуброва не сжигали, а просто разграбили. За что фашисты нам мстили, я не знаю. Но помню, что 12 марта на Виленском шоссе, примерно в двух километрах от нас, партизаны подорвали машину с немцами. Все наши погибшие односельчане были похоронены 15 — 17 марта на местном кладбище в деревне Прилепы. Больше дополнить ничего не имею. Протокол мною лично прочитан, записано с моих слов верно».
Тогда случайно спаслись еще Никита Иванович Булыга (он умер в 1955 году) и Анна Николаевна Абметко. Булыга спрятался от карателей, закопавшись в кучу навоза. Другие же наши односельчане остались живы только потому, что им, как и мне, удалось убежать еще до сожжения деревни. Я знаю, что в Прилепах, кроме домов, немцы сожгли школу, два магазина, водяную мельницу, сельсовет, почту и больницу. Уцелел только колхозный клуб. А сколько точно было там домов и убито людей, я не знаю. Деревню Багута в пяти километрах от нас, каратели сожгли в пятницу, 12 марта 1943 года и сожгли там около 150 человек.
После Багуты и в нашей деревне боялись расправы, поэтому и успели убежать некоторые жители. Деревню Дуброва не сжигали, а просто разграбили. За что фашисты нам мстили, я не знаю. Но помню, что 12 марта на Виленском шоссе, примерно в двух километрах от нас, партизаны подорвали машину с немцами. Все наши погибшие односельчане были похоронены 15 — 17 марта на местном кладбище в деревне Прилепы. Больше дополнить ничего не имею. Протокол мною лично прочитан, записано с моих слов верно».
Из воспоминаний
Софьи Михайловны Росса
(Нехайчик)
1923 ГОДА РОЖДЕНИЯ, ЖИТЕЛЬНИЦА ДЕРЕВНИ
Софьи Михайловны Росса
(Нехайчик)
1923 ГОДА РОЖДЕНИЯ, ЖИТЕЛЬНИЦА ДЕРЕВНИ
Я в это время к соседям побежала. Немец заметил меня и стал стрелять по мне, я развернулась и сиганула обратно. А когда утро наступило, стали они дома поджигать. Матрасы на кроватях соломенные, так они разорвали их и подожгли, а от них вспыхнула и хата. Людей почему–то не трогали, хотя дома все подряд жгли. Только вот здесь недалеко (показывает рукой) хату обтушили, и в конце улицы, где дети маленькие находились, один дом успели спасти. Соседнюю деревню Орешники, когда она отдельно от нас была, тоже в тот день сожгли. Мужчин всех собрали и расстреляли. Мой папа с односельчанином в этот день собирал деньги у людей на икону, и они ушли на хутор. А к этому времени, когда немцы стали мужиков сгонять, вернулись в деревню. Кто–то успел убежать, но очень мало человек. Я знаю, что ставили их около кладбища на пригорке, где дорога проходит на Смолевичи, в ряд по шесть или семь человек. Папу моего тоже расстреляли. Кресс спасся случайно. В него пуля не попала, а он просто упал, когда убитые падали. Но потом он погиб на фронте. В некоторых семьях расстреляли и мужа, и сыновей. В деревне одни бабы да дети остались. Пока дома не отстроили, жили кто в деревянных погребах, кто в землянках. Немцев в конце войны быстро гнали. Под папельщиной, как у нас называют, около Мостища, их хорошо побили. Шли танки наши рядом с деревней. Недалеко в лесу есть могила советских танкистов. Раньше мы ухаживали за ней, а теперь не знаю, кто туда ходит, уже сил нет у меня далеко ходить».
Как–то зимой вечером приехали немцы и окружили наше село
Я в это время к соседям побежала. Немец заметил меня и стал стрелять по мне, я развернулась и сиганула обратно. А когда утро наступило, стали они дома поджигать. Матрасы на кроватях соломенные, так они разорвали их и подожгли, а от них вспыхнула и хата. Людей почему–то не трогали, хотя дома все подряд жгли. Только вот здесь недалеко (показывает рукой) хату обтушили, и в конце улицы, где дети маленькие находились, один дом успели спасти. Соседнюю деревню Орешники, когда она отдельно от нас была, тоже в тот день сожгли. Мужчин всех собрали и расстреляли. Мой папа с односельчанином в этот день собирал деньги у людей на икону, и они ушли на хутор. А к этому времени, когда немцы стали мужиков сгонять, вернулись в деревню. Кто–то успел убежать, но очень мало человек. Я знаю, что ставили их около кладбища на пригорке, где дорога проходит на Смолевичи, в ряд по шесть или семь человек. Папу моего тоже расстреляли. Кресс спасся случайно. В него пуля не попала, а он просто упал, когда убитые падали. Но потом он погиб на фронте. В некоторых семьях расстреляли и мужа, и сыновей. В деревне одни бабы да дети остались. Пока дома не отстроили, жили кто в деревянных погребах, кто в землянках. Немцев в конце войны быстро гнали. Под папельщиной, как у нас называют, около Мостища, их хорошо побили. Шли танки наши рядом с деревней. Недалеко в лесу есть могила советских танкистов. Раньше мы ухаживали за ней, а теперь не знаю, кто туда ходит, уже сил нет у меня далеко ходить».
Из воспоминаний
Марии Павловны Масловской
(Боровской)
Марии Павловны Масловской
(Боровской)
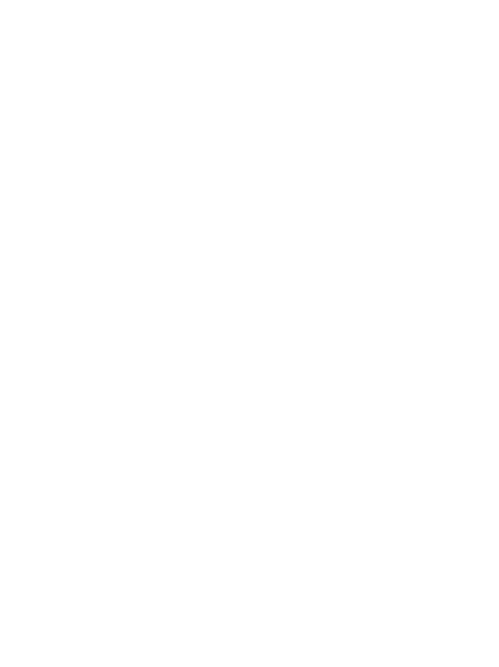
1936 года рождения, жительница деревни Орешники
«Я маленькая была, когда война началась, знаю, что жила наша семья на староселье, как мы называли. Помню день, когда немцы на нас напали. Меньшие дети на печке лежали, а старшая сестра стояла у окна и плакала. Со двора мама пришла и спрашивает: «Сонечка, почему ты плачешь?» А она отвечает: «Мама, война началась». Этот момент в памяти хорошо отложился. У моих родителей было девять детей: Мишка, Сонька, Костик, Таня, Федя, Зинка, Володька, Олечка и я, самая младшая. Старший брат Миша ушел воевать, только он пропал без вести. Папу в тридцать седьмом объявили кулаком и сослали в Куйбышев, где он и умер. Так что войну мы встретили с мамой. Напротив нашего дома предатель жил, его партизаны убили однажды ночью. Мы сами это видели, из окна своего дома. Возможно, из–за этого полицаи и стали собирать мужчин, не могу сказать. А потом и Водицу сожгли, и Орешники. Наша хатка подальше за лесом на хуторе стояла, так что уцелела. Я помню, что мы свой дом три раза перевозили из хутора в деревню и обратно, а почему, не могу сказать.
В тот день, когда сгоняли наших деревенских мужчин,
стоял сильный мороз да в хате холодно было
стоял сильный мороз да в хате холодно было
Это где–то на Коляды происходило. По крайней мере, взрослые тогда о них говорили. Я по хате ходила, ждала, пока мамка еду приготовит. Она в печи пекла яичницу, а Костик по дому в кожушке ходил. Тут и он говорит: «Мама, я так кушать хочу». Мама ответила: «Сыночек, подожди. Я только угольков на «варыўню» занесу и сядем за стол». Она выгребла в посудину жар из печи (им прогревали помещение, чтобы запасы картошки не промерзали) и собралась выходить из дома. Дело в том, что склепов тогда не было, поэтому овощи хранили в углублениях, которые и называли «варыўня». И вот она взялась рукой за ручку двери и хотела ее открыть, а с улицы навстречу ей заходит немец. Увидел Костика в кожушке и говорит: «Партизан! Ком, ком, партизан!» Мама стала говорить, что это ее сын и он не партизан. Косте тогда около двадцати лет было. В общем, немец его забрал и вывел на улицу.
Так брат и попал в число тех мужчин, которых на расстрел повели
Он, тяжелораненый, чудом выжил, когда немцы наших мужчин около кладбища расстреливали. Говорил, что немцы того, кого сразу не убили, добивали потом. Ходили около трупов и смотрели, не шевелится ли кто или стонет. Костя смог выдержать, не выдал себя. Выжил тогда и Костя Каминский, и еще один мужчина. Полуживого брата прятали на дальнем хуторе, ведь немцы потом искали раненых мужчин. Мама его еле выходила. Потом брат ушел на фронт, хоть и с рукой были проблемы после ранения, и погиб в Восточной Пруссии. Забрали его в военкомат уже во время освобождения. Мама ходила провожать в Смолевичи. Говорила, что когда шла обратно через Александровский лес, то там полно немцев было. К ней подошел офицер, разложил немецкую карту и попросил ответить, как в нашей округе называются все деревни. Мама назвала. А он три раза переспрашивал, может, перепроверял ее. Она боялась, что ее убьют, но, к счастью, немец ее отпустил. Фашисты тогда отступали, в Малиновском лесу лошадей порезали, кухни свои побросали, а чуть позже появились наши солдаты. Я хорошо помню, как около хвойника со стороны Заболотья шла их техника. А мы, малые, побежали к этой колонне, нарвали возле леса на ходу цветов и, стоя около дороги, им махали. Так радовались, что не передать. Вот так встречали наших освободителей».
Из воспоминаний
Софьи Михайловны Хмельницкой (Кленицкой)
Софьи Михайловны Хмельницкой (Кленицкой)

1926 года рождения, жительница деревни Орешники
«Перед самой войной я жила в деревне Водица. Это теперь название улицы в деревне Орешники. Мы купили кладовую, сделали хатку и так жили. У меня был брат Володя с тридцать третьего года рождения и сестра Надя с двадцать четвертого. У тех людей, которые не хотели вступать в колхоз, забирали дома, а хозяев некоторых высылали. Папа мой один день поработал на колхозном поле, ячмень косил. А в тридцать седьмом году его все же раскулачили и репрессировали.
Я дома была, когда немцы пришли. Сначала они взломали магазин в Орешниках, забрали еду, одежду, оставили только лошадиную упряжь и ушли дальше. Где–то зимой, в начале сорок третьего года, они сожгли нашу деревню. Мужчин всех собрали и расстреляли.
Я дома была, когда немцы пришли. Сначала они взломали магазин в Орешниках, забрали еду, одежду, оставили только лошадиную упряжь и ушли дальше. Где–то зимой, в начале сорок третьего года, они сожгли нашу деревню. Мужчин всех собрали и расстреляли.
Я помню, как один старик кричал:
«Хлопцы, это мы старые, убежать не можем. А вы чего стоите?»
«Хлопцы, это мы старые, убежать не можем. А вы чего стоите?»
Один хлопец, Ленька, смог убежать. А еще угоняли в Германию. Все боялись и прятались кто куда. Я от страха не успела спрятаться, и они меня схватили. Что со мной будет, я не знала. Мама успела дать мне с собой кусочек хлеба и соль. Вместе со мной из села угнали Веру Каминскую, Леню Растиновича и Надю Восковец, а 11 марта меня отправили в Германию. Там я пробыла 2,5 года, работала на немецкую семью. Приехала домой в землянку, а в селе потихоньку начали отстраивать хаты. Мужиков не было, так бабы и старшие дети лес рубили на бревна. Мой сарай еще с того самого леса, бревна неровные — один конец толстый, а другой тонкий. Как могли, так и складывали».
Разыскивая свидетелей военных лет из деревни Орешники, я обратилась за помощью в Заболотский сельсовет, где мне сообщили их имена. О той трагедии, которая произошла там в январе сорок пятого, я, по правде говоря, толком ничего не знала, просто «что–то и где–то слышала», да и о том, что когда–то была такая деревня Водица, понятия не имела. Просматривая список, обратила внимание на то, что в нем одни женщины. Сама для себя решила, что мужчины, жившие здесь в довоенное время, уже умерли, но не знала, насколько давно. И только после услышанных рассказов все поняла, а потом долго стояла у памятника. В середине шестидесятых останки расстрелянных мужчин с почестями перезахоронили в деревне Орешники. Девяносто две фамилии... Просто подумать страшно. И даже у совершенно постороннего человека, глядя на эти огромные списки на каменных таблицах, на минуту застынет сердце.
Наталья ЧАСОВИТИНА, газета «Край Смалявiцкi»
Советская Белоруссия № 98 (24728). Среда, 27 мая 2015
Советская Белоруссия № 98 (24728). Среда, 27 мая 2015
Сестры Хатыни
Материалы о сожженных в Великую Отечественную войну деревнях на территории Беларуси.
